Руководитель НИИ им. Бурденко о клинике и о себе

Коновалов Александр Николаевич
Больше полувека академик Александр Коновалов, руководитель НИИ им.Бурденко, проводит сложнейшие нейрохирургические операции. «К счастью, я продолжаю оперировать», – так говорит Александр Николаевич о своей жизни Правмиру.
В Международный день врача, который отмечается во всем мире 3 октября, предлагаем интервью с одним из самых известных докторов страны.Коновалов Александр Николаевич – врач-нейрохирург, педагог, профессор, академик РАН. Доктор медицинских наук. Научный руководитель Научно-исследовательского Института нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко. Президент Ассоциации нейрохирургов России, редактор журнала «Вопросы нейрохирургии», председатель Диссертационного Совета, заведующий кафедрой детской нейрохирургии РМАПО. Герой труда России (медаль №1). Александр Николаевич провел более 15 000 операций.
Если что-то пошло не так — запоминается надолго
– Александр Николаевич, вы работаете в Институте им. Бурденко уже 59 лет!
– Честно говоря, я уже запутался в этих исчислениях, потому что я пришел в Институт, когда был студентом, так что получается даже дольше, чем мое официальное пребывание.
– А как изменился за это время обычный день Коновалова?
– Мой обычный день… Какой день был у меня вначале, когда я был студентом, ординатором, я плохо помню. Тоже было напряженно, но там была другая задача – надо было учиться, читать бесконечные учебники, книги. Медицина – сложная штука, запоминать надо очень много.
А последние десятилетия, уже лет сорок, все идет по одному наработанному плану – с утра у меня операции. Так было много лет назад, так и сейчас, к счастью, продолжается.На экране вы видите одну из операционных, а у нас таких 15, и всё это транслируется. Сейчас мы заканчиваем строить еще семь операционных. В день мы делаем сорок операций, а иногда даже больше, это штучное производство, операция продолжается несколько часов. А больного надо подготовить, потом вывести после операции, – всё это требует времени.
– И вы продолжаете вести самые сложные операции?
– Да, может быть, не так часто и так активно, как в прошлые годы, но, к счастью, продолжаю оперировать.
– Вы в своих интервью достаточно много говорите о своем кладбище пациентов.
– Это далеко не моя мысль. Я думаю, что каждый хирург, который постоянно работает, не может об этом не помнить и не говорить. Самое тяжелое в нашей жизни – эти больные, которым мы не то что не помогли, а часто даже нанесли вред. Потом наступают мучительные рассуждения: предположим, всё шло гладко, а больной после операции не проснулся или проснулся с какими-нибудь тяжелыми осложнениями. И начинаешь думать и решать: а что не так? И так постоянно. Это общая боль, общая беда всех хирургов – если много операций, то много и тяжелых осложнений.
– Но у вас же намного больше людей спасенных!
– Спасенный – это норма, к этому привыкаешь. Радуешься, конечно, какое-то мгновение, так как видишь, что всё нормально, всё хорошо, всё, как задумывал. Это быстро забывается. А если прошло что-то не так, если случилась неудача, какая-то трагедия, – это надолго остается.
Я до сих пор помню своих первых больных, которым после моих операций было плохо или которые погибли. Даже по именам помню.
Первого больного я не забываю, потому что была странная вещь – мне доверили несложную операцию, надо было где-то на поверхности головы перерезать сосуд, а больной умер. Бывают такие вещи, потому что многое до конца не известно, а особенно раньше, когда были несовершенные, неполноценные, поверхностные исследования. Что-то мы видим, а основного процесса понять не можем.

«Этот мальчишка станет звездой первой величины»
– В 42 года вы стали руководителем Института.
– Я уж не помню… Вы про меня лучше знаете, чем я.
– Про вас руководители тогда сказали: «Этот мальчишка станет звездой первой величины».
– Я не знаю, кто это сказал. Такую фразу сказать интересно – а вдруг сбудется? (Смеется).
– Но какую ответственность, какой груз на вас возложили!
– Я пытаюсь иногда в прошлое заглянуть и посмотреть, что я такого нечеловеческого сделал, – ничего. Я делал то, что привык делать. Для меня самое главное было – это больные, их лечение. Даже такой сложный по структуре Институт всё равно держится на больных. Если с больными всё в порядке или почти всё в порядке, и лечебный процесс налажен, – всё остальное формируется вокруг этого само по себе. Люди, понимая свою ответственность, включаются в этот процесс.
На всякие организационные вещи я меньше обращал внимания, хотя их очень много. Большой Институт, всегда какие-то проблемы: и деньги надо доставать, и строить надо. Но это шло как-то само собой на фоне самой главной задачи – лечения больных. Потому что если возникает какая-то проблема, всегда найдутся люди, которые знают, что Институт занимается серьезным делом – спасает людей. Они охотно помогают. На этом держится медицина. Я не знаю, будет ли и дальше так, но, наверно, будет.
Изменения в медицине – процесс эволюционный
– А сейчас студенты идут в нейрохирурги?
Поразительная вещь – последние десятилетия у нас в Институте работают замечательные молодые люди. Они рвутся в нейрохирургию, потому что в последние годы эта специальность очень популярна, и каждый год, каждое десятилетие эти успехи умножаются. Даже трудно сказать, за какое время это произошло, всё время что-то новое возникает на пике самых последних достижений науки.
И люди тянутся. Приходят молодые люди, хорошо подготовленные. А что значит подготовленность? Это знание языка, в первую очередь. И второе, владение современными технологиями – без компьютера, без умения пользоваться самыми современными электронными технологиями в медицине делать нечего. А они всё это умеют.

– А произошли такие открытия, чтобы сказать «Ура! Эврика!», лично у вас в последние годы что-то такое есть?
– Это всегда журналистов больше всего интересует: есть ли какая-то сенсация, не придумали ли что-то такое, что сразу бы перевернуло весь мир. Изменения в медицине – это процесс эволюционный, постоянно что-то появляется, что-то усложняется. Это очень быстрый процесс, так что стираются грани между эволюцией и революцией, всё время идет обновление, появляются какие-то новые технологии.
Все знают, что сейчас без компьютерной магнитной резонансной томографии нет медицины. Это была настоящая революция! Появился компьютерный томограф – и всё стало ясно, мы можем заглянуть вглубь человека, голову видим насквозь! А сейчас магнитная резонансная томография – это просто чудеса. Ее замечательные возможности далеко не исчерпаны. И этот процесс всё время развивается, совершенствуется. Каждый год что-то новое появляется в плане диагностики. Да и хирургия тоже другая стала.
– Вы рассказывали, как приделывали какую-то ракетную капсулу к потолку в операционной, чтобы первый микроскоп поставить.
– К сожалению, я долго искал эти фотографии, а найти не смог. Ведь наши первые операционные располагались в бывшей церкви с высокими сводчатыми потолками. Во время войны эту церковь превратили в операционный блок. И для того, чтобы укрепить микроскоп (а это так называемая потолочная фиксация, он укрепляется на потолке для того, чтобы его можно было свободно перемещать), на одном из наших секретных авиационных или ракетных заводов сделали такую «ракету». Она действительно имела форму ракеты – огромная гильза, которая свисала с потолка, а на ней внизу укреплялся микроскоп. Действительно, был такой период.
Я честно признаюсь, что не верую
– А сейчас там опять храм?
– Да, храм… Если у вас будет время, я советую туда зайти. Мы его восстановили и не можем нарадоваться, потому что это очень красивый, необычный храм.

– При открытии этого храма в 1902 году присутствовали великий князь Сергей Александрович, великая княгиня Елизавета Федоровна, граф Шереметьев.
– Да, при открытии всего этого здания. В этом здании была домовая церковь в стиле арт-нуво, она очень необычная. Нельзя сказать, современная, хотя, какие современные церкви, я не знаю. Это церковь прошлого века, и архитектура тоже прошлого века. Она очень красивая и очень дорогая, потому что мы восстановили ее своими руками
– Вы присутствуете на богослужениях. Вы человек верующий?
– Нет. Я честно признаюсь, что я не верую. Я крещеный, но неверующий. Я не верю врачам – нейрохирургам, неврологам, которые говорят, что они верующие, хотя среди них попадаются такие. Понимаете, те знания, которыми мы располагаем, которыми с молодых лет владеем, они не оставляют места для божества. Место для религии есть, но для бога места нет.
– Неужели в вашей практике не было такого случая, который можно объяснить не иначе, как только чудом?
– В чуде, в конце концов, если разобраться, всегда есть какая-то объективная причина, или можно предположить, что она существует. Поэтому всегда надо стараться всё это объяснить с точки зрения реальных событий и реальных явлений. Я думаю, всегда это можно сделать, за исключением каких-то редких вещей. Но потом находится объяснение и для этих вещей тоже.
– Я недавно разговаривала с одним нейрохирургом, его мнение, что нет ни одного врача, который бы перед операцией или во время операции не помолился.
– Понимаете, у каждого человека есть определенные ритуалы, вера в какие-то приметы. Внутренние убеждения – это тоже своего рода вера. Принципы, которые человек разделяет, – это вера. Но здесь другое. Вера в бога, который всё определяет, от которого всё зависит, – это другая вещь.
– А как же ваша поездка на Соловки?
– Здесь мало религии, просто есть определенное человеческое любопытство, любознательность, – увидеть замечательное историческое место, где столько людей жило. Не только вера, это всё – человеческая история, человеческая жизнь – конечно, интересно. И туда масса людей приезжает не на богомолье, а просто посмотреть.
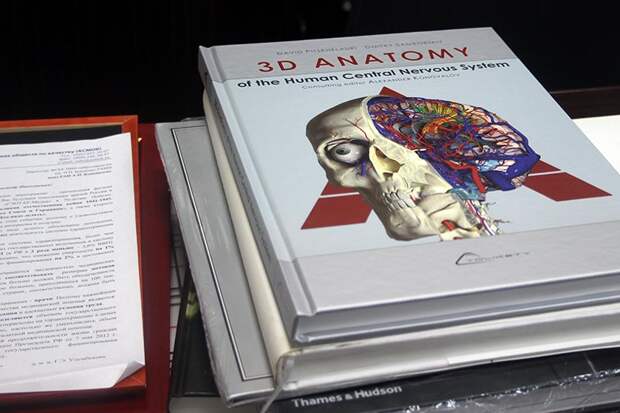
– Наверно, вы знаете такую историю про святителя Луку Войно-Ясенецкого: когда ему сказали, что как же вы можете верить в Бога? Космонавт Юрий Гагарин летал в космос и никакого Бога не видел. И он ответил: «Я тоже, когда вскрываю черепную коробку, никакого ума там не встречаю». А вы что думаете?
– Таких афоризмов, действительно, очень много. Когда мы делаем операцию, мы не стараемся понять, как человек думает, у нас другие задачи. Почему он думает, и что у него в голове в этот момент – нас не это интересует.
“Раньше в институте было мало места…”
Всё-таки я не могу понять, мы пришли говорить о Бурденко, а вы мне задаете какие-то бытовые вопросы.
– Да, всё-таки мы говорим о вас, так как мы уже пропустили этот юбилей.
– Вы зря так от него открестились.
– Мы не открестились. Мы можем еще раз прийти.
– Юбилей Николая Ниловича Бурденко – это было, действительно, важное для нас событие, причем событие интересное. Здесь совпадение, у нас два прародителя в Институте – Николай Нилович Бурденко и Василий Васильевич Крамер, очень известный российский невролог, который лечил Ленина. Этот Институт создан по их идее, они – два основоположника. Самое удивительное, что Николай Нилович и Василий Васильевич родились в один год – 140 лет назад, и в этом году мы отмечаем юбилей и Бурденко, и Крамера.
Николай Нилович Бурденко (1876-1946) – российский хирург, организатор здравоохранения, основоположник советской нейрохирургии, главный хирург Красной Армии в 1937-1946 годы, академик АН СССР, академик и первый президент АМН СССР, Герой Социалистического Труда, генерал-полковник медицинской службы, участник русско-японской, Первой мировой, советско-финской и Великой отечественной войн, лауреат Сталинской премии. Почётный член Лондонского королевского общества хирургов и Парижской академии хирургии. Председатель Советской комиссии, расследовавшей Катынский расстрел польских граждан.
Крамер Василий Васильевич (1876-1935) – российский невропатолог, один из корифеев отечественной неврологии. Труды по локализации функций в головном мозге, семиотике поражений мозга и многие другие. Лечащий врач В. И. Ленина в последние годы его жизни.
У нас есть очень хорошая традиция – фильмы по истории института. Наши сотрудники выпустили фильм про их очень непростую жизнь, про то, как их история наслоилась на все те события, которые проходили в России. Хороший, интересный фильм. Я думаю, что вам любопытно будет посмотреть.
 У нас подбирается коллекция фильмов про историю Института – про разные события, про многих выдающихся ученых, которые здесь работали. Есть активная группа, которая всё время занимается историей. В институте есть небольшой музей, где мы сохраняем самые важные вещи о том, что здесь делалось.
У нас подбирается коллекция фильмов про историю Института – про разные события, про многих выдающихся ученых, которые здесь работали. Есть активная группа, которая всё время занимается историей. В институте есть небольшой музей, где мы сохраняем самые важные вещи о том, что здесь делалось.

– Тем более, это историческое здание, до революции там был пансион для дворянских детей.
– Вы правы, в этом здании во время войны был госпиталь для раненых с поражением нервной системы, а затем Институт. И если вы посмотрите на старое здание, оно очень небольшое. Там был пансион для дворянских детей всего на сто мальчиков, а во время войны располагалось более тысячи раненных. Здесь близко Белорусский вокзал, и от него была проложена трамвайная линия прямо до стен Института, и больных с фронта на этом трамвае доставляли в клинику. Как там удавалось разместить всех раненых, я не представляю.

В 1870 году губернский предводитель московского дворянства князь А.В. Мещерский предложил устроить в Москве пансион-приют, где могли бы жить обучающиеся в различных учебных заведениях дворянские дети, которые приехали на учебу в Москву из разных уголков Российской империи. В годы Великой отечественной войны там располагался эвакогоспиталь № 5016.
Когда мы стали работать в этом Институте, было очень мало места для клиники, в которой было триста коек. А к тому времени было построено еще одно здание, и всё равно места было очень и очень мало. Но когда появилось новое 14-этажное здание, вроде бы мы вздохнули свободно, но всё равно время идет, и появились новые потребности. Сейчас нужен новый операционный блок, новый образовательный центр, где можно готовиться, учиться нейрохирургии, нужен и новый зал для проведения научных конференций. Строительство в этом году должно быть уже завершено.

Лечащий врач Сталина
– Вы рассказываете о замечательных ученых, но ваш отец – тоже выдающийся человек, знаменитый советский невролог.
– Вы, наверно, не случайно спросили. Буквально на днях мне принесли статью про моего отца, которая написана его бывшим аспирантом, замечательным ученым, профессором Ириной Анатольевной Ивановой-Смоленской, главным научным сотрудником Научного центра неврологии. Статья не только про отца, а про тот период, про то время, про тех людей, которые работали и создавали неврологию в довоенные и послевоенные годы. Это очень интересный период, и прекрасно написанная статья.

Коновалов Николай Васильевич (1900-1966) – советский невропатолог, академик и вице-президент АМН СССР. С 1948 директор Института неврологии АМН СССР. Основные исследования посвящены проблемам дегенеративных заболеваний нервной системы. Широко известны труды Коновалова по патофизиологии мозжечка, гепатолентикулярной дегенерации (болезнь Вестфаля—Вильсона—Коновалова), рассеянному склерозу, полиомиелиту. Ленинская премия (1961). Награжден орденом Ленина, двумя орденами, а также медалями. Главный невропатолог Лечебно-санитарного управления Кремля, был лечащим врачом Сталина.
– Он был в консилиуме, когда умирал Сталин.
– Да. Не дай бог, вспомнить то время.

– Он что-нибудь рассказывал?
– Я-то помню очень живо, потому что это как раз совпало с периодом «дела врачей», был пик этих событий. А мы жили в доме, где врачей было много, каждую неделю приходили сообщения, что этого взяли, того взяли, и все были в крайнем напряжении. Я помню это очень хорошо. Отец прекрасно знал немецкий язык, немецкую философию, у него было много философских книг, он от них не то, что избавился, а перевез к своей матери домой, не дай бог, кто-то заинтересуется, проверит.
И в один из этих очень тревожных и напряженных дней стук в дверь, появляются люди с характерной внешностью: «Николай Васильевич здесь?» – «Здесь». Зовут его. Очень коротко: берите с собой всё необходимое, зубную щётку, то, сё. Это было как раз 3 марта. Дома, естественно, паника, тревога, только к вечеру мы сообразили, что, по всей вероятности, это связано с болезнью Сталина. А потом уже пошли сообщения, что там присутствовали такие-то и такие-то врачи.
Отец рассказывал, что это было очень тревожное время, особенно для него. Тогда не было компьютеров, и диагноз ставили просто на основании своих знаний, своего опыта. Сталину был поставлен диагноз «кровоизлияние в мозг». И вот в присутствии всего Политбюро и охраны производится вскрытие, академик Абрикосов ножом разрезает мозг, и в самый ответственный момент – будет или не будет гематома – мозг развалился на две половины, и вывалилась гематома. Это сразу сняло всё напряжение, а оно было колоссальное.
– А почему до сих пор считается, что Сталин был отравлен?
– Спекуляций очень много, можно без конца фантазировать, придумывать, зарабатывать дивиденды. Очень выигрышная тема. Всё было просто – это был второй инсульт. Хотя, честно говоря, даже сейчас – мы с этой проблемой постоянно сталкиваемся – отличить ишемический инсульт от геморрагического не так просто. Симптомы одни и те же: человека быстро парализует, он без сознания, в коме – то ли у него крупный сосуд закрылся, то ли кровоизлияние произошло. Это далеко не простая ситуация, тем более, что про Сталина мало было известно, его нашли к утру лежащим с нарушенным дыханием, полуживого. Так что напряжение было сумасшедшее. Слава богу, что всё это так разрешилось.
– Вы в свое время не смогли продолжить дело отца, т.к. в то время не поощрялись врачебные династии.
– Может быть, и хорошо, потому что мне бы не хватило серого вещества, я честно говорю абсолютно, быть на том уровне, который был свойственен отцу. Он был удивительно образованный человек и с фантастическими интеллектуальными возможностями. Память у него была исключительная, он абсолютно всё держал в голове, всё знал, владел восьмью языками. Без этого неврология – и современная, и того времени – просто невозможна, необходим огромный багаж знаний. Так что это всё нормально.
– Ваш сын тоже нейрохирург.
– У каждого своя судьба, это непросто – быть на уровне.
– Тем не менее, династия продолжается?
Понимаете, есть семейная сила, сила традиции, когда вырастаешь в определенной системе, или в определенной семье, или в определенном окружении. Из этого бывает трудно выбраться.
Я с самых детских лет помню всё это медицинское окружение, помню лица замечательных, очень умных, очень ярких людей. И это производило впечатление, хотелось быть на них похожим. Наверно, всё это сказывается, в конце концов, особенно раньше – ведь раньше жизнь была другая, не такая, как сейчас. Сейчас люди смотрят телевизор, погружаются в компьютер – всё остальное не существует. А прежде самым главным было общение.
Я присматриваюсь, кому бы довериться?
– У Высоцкого есть песня «Он был хирургом, даже нейро…»
– Он был хирургом – даже нейро,
Специалистом по мозгам,
На съезде в Рио-де-Жанейро
Пред ним все были мелюзга.
Высоцкий написал такие строчки про моего учителя, профессора Канделя. Эдуард Израилевич работал многие годы здесь, потом организовал отделение в Институте неврологии. Очень яркий человек.
Эдуард Израилевич Кандель (1923-1990) – один из ведущих советских врачей-нейрохирургов, заведующий нейрохирургическим отделением НИИ неврологии Академии медицинских наук СССР. Доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии СССР за разработку сосудистой нейрохирургии. Автор более 350 научных работ, 6 монографий, 14 изобретений и 5 патентов.
– Я вот про что хотела спросить: он вас попросил его оперировать…
– Как-то это само собой сложилось. Наверно, и попросил.
– А у вас есть такие врачи, кому бы вы так же смогли доверить свою жизнь?
– Вы знаете, эта мысль не случайна, она мне чаще и чаще приходит в голову. Ну, а вдруг что случится? В окружении у меня, действительно, выросло поколение прекрасных хирургов, один лучше другого. Я присматриваюсь, кому бы довериться? (Смеется). Есть люди, есть.
– Бывает такое, что руки опускаются, дышать тяжело? Что помогает выйти из этих ситуаций?
Эти периоды постоянно возникают. Вот идет период благоприятного течения операции, потом, вдруг, неудача, причем неожиданно. Иногда просто на фоне удач притупляется внимание, осторожность теряется, и вдруг допускаешь какую-то ошибку, и потом никак не можешь успокоиться. И, действительно, домой приходишь – и спать не можешь, и руки опускаются. Но всё равно, на следующий день те же проблемы, и постепенно они всё остальное отодвигают на второй план. Когда есть постоянный напряженный труд, даже очень тяжелые переживания уходят.
– Скажите, пациенты-дети от взрослых отличаются?
– Я руковожу кафедрой детской нейрохирургии, так что дети – это моя, может быть, главная специальность. Детское отделение (у нас два детских отделения) – это особое. Я очень много оперировал детей, особенно вначале. Сейчас появились хирурги, которые делают это прекрасно, лучше меня. Я много оперировал детей и всегда очень болезненно к этому относился, старался поближе с детьми не знакомиться. Я уже не первый раз об этом говорю. Нельзя привыкнуть к ребенку, чтобы потом вместе с ним и его семьей переживать. Надо делать просто свою работу по возможности отстраненно. Хотя это очень трудно.
Врачи — самые мирные люди
– Вы как-то сказали, что надо достойно прожить свою судьбу – и больному, и родителям, и вам тоже. Что вы вкладываете в это? Терпеть, нести неудачи?
– Ну, не знаю. Это целая проблема, как на это ответить в нескольких словах?
Наверное, самое главное, чтоб человек постоянно делал то, чему он себя посвятил. Есть предназначение, и если ему повезло, если он выбрал важное для себя дело и следует этому, – это самое главное. В жизни много несчастливых людей, которые себя не нашли. А если ты себя нашел – радуйся этому и старайся следовать этому пути до конца.
– А что бы вы хотели или заново пережить, или вернуть? Что-то или кого-то, без чего трудно жить?
– Я думаю, что у всех есть такое желание – начать всё сначала. А когда серьезно подумаешь, то с этого пути, который прошел, далеко в сторону не свернешь, всё равно выйдешь на ту же дорогу.
– В последнее время, в связи с военными конфликтами, например, очень усложняется оружие. Это же предполагает другие техники медицинского вмешательства? Медицина в связи с этим меняется?
– Здесь есть разные аспекты. Конечно, медицина меняется, всегда была военная медицина. Военная медицинская академия – это лучшее медицинское учреждение в стране. И всегда военная медицина в России была на самом высоком уровне. Возникает напряженность, и, конечно, это касается врачей. Но это особая сторона.
А вообще, конечно, врачи – самые мирные люди. Потому что мы знаем, как дорого стоит человеческая жизнь, сколько труда надо вложить, чтобы спасти её или хотя бы сохранить на какое-то время, и как легко от нее избавиться.
Поэтому, если есть кто против войны, то это, прежде всего, врачи.
– Всё-таки человеческая жизнь хрупкая, да?
– Невероятно! Невероятно, конечно. Особенно, если речь идет о боевых действиях. А болезнь! Трудная и мучительная болезнь – здесь борьба за жизнь бывает иногда очень тяжелой.
У каждого человека есть своя вера
– В одном сюжете, когда вы были на даче у Рязанова, вы сказали, что можете ударить. А были реально такие ситуации?
– Наверно, были. Любого человека можно довести до такого состояния, что он ударит. И нужно кого-то ударить, почему нет? Мало ли у нас паршивцев, мерзавцев, которых бить надо. Нормальная человеческая ситуация. Здесь ничего необычного.
– А что вас может вывести из себя больше всего? Какие человеческие качества или поступки?
– Куда-то вы в сторону уходите (смеется). Это предсказать нельзя. Разные ситуации бывают – какой-то мерзавец появится, пьяница кого-то обидит. Это, действительно, такая ситуация, когда удержаться трудно. Ситуаций много, всех их не перечислить, и возникают они иногда из ничего. Лучше этого не касаться.
– Какие у вас сейчас планы?
– Понимаете, план один. Любая жизнь имеет конец. У каждого человека, наверно, самое главное в жизни – чтобы конец был достойным, чтобы, по возможности, насколько позволяют природа и обстоятельства, сохранять жизнеспособность, боеспособность и быть профессионально пригодным.
– Просто удивительно, как люди, которые позиционируют себя как неверующие, по всем своим делам настоящие христиане…
– Вы знаете, я думаю, что это всё очень просто. Есть вера в Бога, то, что называется настоящей верой, но у каждого человека есть своя вера: вера в принципы, вера в порядочность, необходимые условия жизни, которые каждый должен соблюдать. Это тоже вера. Она, может быть, еще более стойкая, более важная.
– И вера в Россию? Вы бы могли работать в любом месте мира, ведь вы входите в тройку лучших нейрохирургов…
– Это опять кто-то придумал (смеется). В это приятно верить, но это совсем не так.
– Но это так!
– Ну, хорошо (смеется). Я еще раз говорю, что у каждого свое восприятие жизни. Люди живут, окруженные легендами. Вот Николай Нилович Бурденко — ведь легендарная же личность. Вот мы стараемся освободить его от всего легендарного, что потом на него навесила история. Очень трудно иногда за этим увидеть реального человека, когда он стал абсолютно всем, кумиром стал. А каким он был на самом деле, разглядеть не так легко.
– Да, и если перечислить все ваши звания и награды…
– Да, и начинают перечислять: то, то, тот он и тот… А человека за этим и не увидишь.
– В честь вас даже есть звезда в созвездии Стрельца.
– (Смеется). Это просто моим близким друзьям еще с институтских времен как-то пришло в голову, нашли они эту звездочку. Оказывается, это всё очень несложно.

– Что вас сейчас больше всего тревожит и что радует в отечественной медицине?
– Что больше всего тревожит? А вот это больше всего тревожит – я смотрю на эту картинку (трансляция на мониторе из операционной, ред.), через три-четыре минуты я пойду туда, и там возникнет непростая ситуация. Это сложный больной, потому что если вспомнить Бурденко, он и не думал, что такие операции когда-нибудь будут возможны. Когда я начинал нейрохирургию, эти операции тоже не выполнялись, они были невозможны, неосуществимы. А сейчас, когда появился микроскоп, когда появилась такая диагностика, методы исследования во время операций, мы отваживаемся на такие операции. Это ребенок, у которого опухоль поражает самую глубокую часть мозга – ствол.

– С одной стороны, больных спасают новейшими способами, но какие-то новые болезни приходят. Или просто сейчас диагностика лучше?
– Я думаю, что беда медицины в противоречии между её возможностями и их реализацией. Ведь сама по себе медицина сделала фантастические успехи. Но требуются невероятные усилия – социальные, материальные – чтобы эти достижения стали доступны всюду. Нужны очень большие деньги.
Вы себе представить не можете, как реально дорого стоит полноценная нейрохирургическая операция. Она складывается из массы компонентов – прежде всего, диагноз. Чтобы поставить диагноз, надо использовать самую современную технику. Ведь наша задача – не только увидеть опухоль, если речь идет об опухоли мозга, мы должны знать, какие рядом с опухолью проходят важные нервные проводники, от сохранности или повреждения которых зависит, проснется больной обездвиженный или перестанет говорить, или с ним все будет благополучно. Мы всё это должны изучить.
А это дополнительные исследования, очень дорогие, очень непростые. Еще ряд исследований, которые тоже, в принципе, мы должны выполнить для того, чтобы всё прошло без сучка и задоринки, чтобы больной перенес операцию благополучно, насколько это возможно. Это всё очень дорого, но возможно. Сейчас достижения медицины позволяют сделать сложные операции радикальными и безопасными. Но чтобы это стало всем доступно, нужны невероятные усилия всего общества.
– Вам, наверное, надо уже идти в операционную.
– Да. Видите, на экране доктора? Это ассистент, он уже смотрит в микроскоп. Это значит, началась та часть операции, в которой я должен участвовать.
Звонок из операционной.
– Да, я иду!

– Спасибо вам большое.
– Да не за что.
Беседовала Амелина Тамара
Видео: Виктор Аромштам

Свежие комментарии